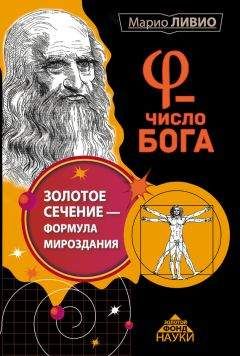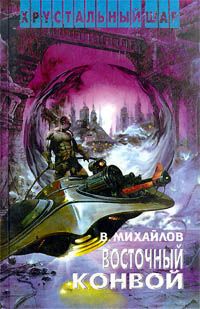Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]
Правда, охранник должен был уснуть куда быстрее: минут через десять, самое крайнее.
Вот он зевнул; длинно, сладко…
Милов лениво поднялся с нар. Шаркая ногами, подошел к охраннику. Присел рядом. Тоже зевнул. Охранник покосился на него.
— Спать надо, не полунощничать.
— Привык перед сном выкурить последнюю…
— Бросать надо. — Охранник посмотрел внимательнее. — У тебя и сорт какой-то… У нас такого не курят. Это для Старших. Забудь.
— Придется, как видно, — согласился Милов. — Последние остались две штуки. Давай: одна мне, другая тебе — и всё с ними.
Охранник поколебался.
— Не полагается… — пробормотал он, хотя рука его по-технетски точным движением уже схватила предложенное. Милов поднес огонька. Душистый дымок на несколько мгновений окутал их. Охранник затянулся. Милов спокойно наблюдал за ним. Барак спал. Милов вытянул руки, чтобы принять на них тяжесть бессильно опускавшегося на лавку охранника. Помог улечься. Охранник дышал мерно, глубоко, разинув рот до предела. Всё было в порядке.
6
(95 часов до)
Двор был безлюден, но все-таки Милов не стал пересекать его, а обошел по периметру, стараясь все время оставаться в тени, какую бросали строения, освещенные яркими фонарями. Без происшествий приблизился к двери, из которой его тоща вывели, чтобы вручить метлу и тем самым включить в реализацию великого технетского смысла. Инструмент доя диалога с замком был у него уже в руке — из того же правого контейнера извлеченный. У двери он обождал немного. Никто не появлялся, в окнах было темно. Милов нашарил замочную скважину. Вложил щуп инструмента, нажал едва выступавшую кнопку на рукоятке. Больше ему ничего не нужно было делать — инструмент прилаживался к замку сам, такой техники пока в блатном мире не было; хотя, надо полагать, долго ждать не придется: обзаведутся и они. Но это сейчас Милова не очень-то волновало.
Дверь отворилась бесшумно; за нею была темнота, что несколько удивило Милова: обычно в такого рода помещениях оставляют свет даже и в нерабочее время, а кроме того, помимо электронной защиты, ставят и охранника, вооруженного и решительного. Здесь ничего подобного вроде бы не было; возможно, над этим следовало задуматься. Жаль только, что времени на размышления не оставалось. Лучше бы мне, пожалуй, вовсе не знать об отсчете времени, — промелькнуло в голове, — куда легче дышалось бы…
Дверь из тамбура в коридор была закрыта неплотно; медленно, сантиметр за сантиметром Милов отворил ее, каждое мгновение ожидая какой-то внезапной опасности, необратимой, как взрыв; ничего, однако же, не было. Он бесшумно двинулся по коридору, протянув руки вперед и чуть в стороны, словно готовясь заключить кого-то в объятия. К счастью, пока вроде бы некого было. Через каждые несколько шагов — останавливался, вслушивался. Было тихо, но он не доверял тишине. Поэтому остановился, пригнулся, снова раскрыл контейнер — левый, извлек слуховую капсулу, вложил в ухо. Настала очередь фотоаппарата, размером с бульонный кубик, заряженного пленкой, рассчитанной на сто двадцать кадров и смонтированного в одном блоке с фонариком-вспышкой — отечественным, дававшим необычно яркий луч, но рассчитанным лишь на немногие секунды действия. Им можно было и просто светить. Из правого контейнера хотел было достать хранившийся там нож-шпрингер с надежным стопором — но передумал и не стал вынимать его. Пошел дальше, на ходу восстанавливая в памяти расположение помещений и мысленно считая шаги. Теперь, держа фонарик в левой руке, правой он легко вел по стене; капсула передавала этот звук — в ее интерпретации шорох звучал, как работающее точило. Потом глухо ударил барабан; это пальцы перескочили на дверь. Милов застыл. Память подсказала, что именно эта дверь и была ему нужна: отсюда его вывели нынче вечером, послали бороться за чистоту — ничего не соображавшего восторженного технета. Ну, что же — двор он подмел чисто, краснеть за свою работу не приходилось.
Снова несколько секунд ушло на прислушивание. Разных шумов доносилось немало: стучали где-то механические часы, в другой стороне падали капли из недовернутого крана, временами что-то шуршало под полом, потом что-то скрипнуло — дерево о дерево, — и Милов невольно напрягся. Но продолжения не последовало; видимо, какие-то естественные процессы происходили в стенах здания — что-то оседало, или, наоборот, какие-то поверхности слегка расходились, деревянная конструкция, как и всегда, жила по своим правилам. Этого бояться не стоило.
Постепенно усиливая нажим, он попытался открыть помещение; не удалось. Нашарил замок и опять пустил в ход свое приспособление, суперотмычку на микросхемах. На этот раз — через капсулу — он хорошо слышал, как механизм работал, быстро играя своей гребенкой, анализируя, выдвигая, закрепляя. Когда шорохи кончились, Милов повернул инструмент в замке, отворил дверь и вошел.
Да, это было то самое помещение. Здесь было куда светлее, чем в коридоре: через матовые стекла окон проходил свет наружных фонарей, тени от решеток лежали на полу. Пока можно было даже не включать фонарика. Затворив за собой дверь, Милов запер замок и почувствовал себя в безопасности. Осмотрелся. При виде кресла, на котором он сидел, пристегнутый, пока ею обрабатывали — технецизировали, — ему сделалось немного не по себе, и он отвернулся. Кресло его не интересовало. По-прежнему не издавая шума, он медленно переместился на то место, где тогда стоял Клеврец: перед приборным пультом. Стал вглядываться. Некоторые приборы он узнавал, с другими встретился впервые. Ни один не был изготовлен здесь, за это можно было поручиться; два или три показались ему сделанными в России, но большинство было иного происхождения, хотя трудно было сказать точнее. Милов начал фотографировать пульт. Вспышки были настолько мгновенными, что глаз почти не успевал их заметить; успевал аппарат. Классное упражнение выполнялось успешно.
Закончив снимать приборный иконостас, Милов продвинулся вглубь помещения — туда, где стояли больничного вида стеклянные шкафчики с инструментами и медикаментами. Стал открывать одну дверцу за другой, фотографировал инструменты, потом стал читать сигнатуры; названия были незнакомыми, собственно, это не были принятые в фармакологии наименования, но какие-то условные, понятные лишь специалистам: утрин, затвор, отвод — и прочие в таком же духе. Милов сомневался, что может запомнить все это, — пришлось снова снимать на пленку, хотя ему хотелось оставить побольше кадров на цеха, в которых (он не сомневался) будет не меньше всяких интересных вещей, а, пожалуй, даже больше. Теперь оставался только сейф — большой, по виду неприступный, стоявший не у стены, а едва ли не посреди лаборатории; там должно было храниться, наверное, самое интересное. С этим сооружением пришлось провозиться минут двадцать; но и его замки в конце концов уступили. Внутри не оказалось, однако, никаких препаратов, инструментов, инструкций или наставлений — только толстая кипа бумаг с множеством фамилий. Переснять всё это было бы невозможно, и Милов, после кратковременного колебания, сунул бумаги себе под куртку, сразу заметно потолстев. Конечно, лучше бы не оставлять следов, но тут иного выхода просто не было.